Золотые «Петушки»: чем ценна прозаическая поэма Венедикта Ерофеева

Исполняется полвека первой публикации книги «Москва – Петушки» нонконформиста и опрощенца, гандиста и великого дегустатора.
Издана она была авантюрным образом в 1973 году в Израиле тиражом в триста экземпляров. Тайно вывез её из СССР эмигрировавший физик Борис Цукерман в виде микроплёнки с отснятым машинописным текстом.
Средства на издание трёх сотен экземпляров выделила крошечная Либеральная партия, функционеров которой убедили, что «Петушки» принесут ей голоса «русских» избирателей. Через месяц партия развалилась, а сочинение обрело мировой статус.
Отношение к творению Ерофеева у публики разное по сию пору. Строгие тетёньки фыркают – дескать, алконавтов за версту видать, от бывшего мужа до сих пор нет алиментов.
Интеллектуалы нос воротят от рецептов коктейлей, которые содержит повествование. Нельзя, мол, такое пить. Отрава ж форменная. Это вообще свойственно постсоветскому интеллектуалу – воспринимать искусство буквально. Иначе не умеет, ибо самопровозглашённый.
Третьи указывают на отсутствие у текста официального признания. Нет наград и посмертных литературных премий? Сомнительно.
Те, другие и третьи, увы, туги на ухо. Тут ничем не поможешь, не слышат звучания последней после «Путешествия из Петербурга в Москву» и «Мёртвых душ» великой прозаической поэмы.
Сергей Довлатов по поводу «Москвы – Петушков» как-то произнёс свой маленький спич. Оценил высоко, достоинства свёл к трём: юмор, лаконизм, простота письма.
При всём уважении никак не могу счесть такую характеристику исчерпывающей. То ли Довлатов воспринимал литературу чересчур сюжетно, ведь юмор, лаконизм и простота – отличительные черты прозы самого Довлатова. То ли мне стоит перечитать поэму, которая живёт в памяти лет тридцать, ни разу с тех пор не обновляемая.
Ведь её герой – это Веничка, которому не суждено ни доехать до вожделенных Петушков, ни увидеть Кремль, ни просто вырваться из окаянной площади Курского вокзала. Его, пьяненького, грязненького, свалявшегося, словно войлок, ждёт такой же грязный подъезд и шило.
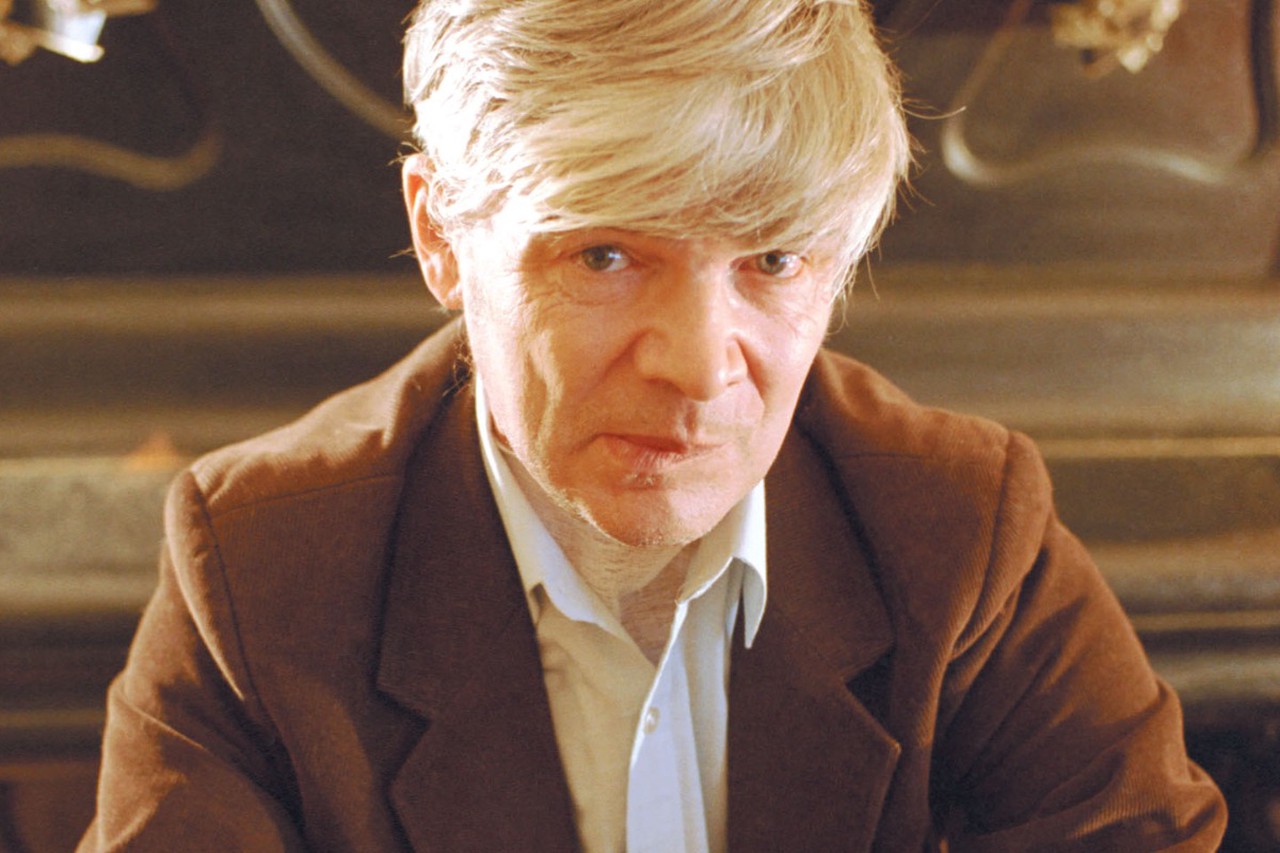
Какой уж тут юмор? Какой лаконизм?
Язык Венички, напротив, кажется избыточным, вязким, перебродившим, даже пованивающим – со всеми его уменьшительно-ласкательными суффиксами. «Москва – Петушки» – упоение прелым вокзальным сиротством, с трауром под ногтями, отёкшими физиономиями, несвязной речью и расстроенным мышлением. Как теперь сказали бы – изменённым состоянием сознания.
Поэма – точный, но не буквальный слепок эпохи. Сохранивший её дыхание – несвежее, зато обладающее колоссальной притягательной силой. Поначалу противно, а потом не оторвёшься.
А ещё до жути трогательно. Хоть тех же ангелов Господних взять. Чуть ли не высшая степень сентиментализма или даже постсентиментализма. Но ни разу не постмодерна, к коему великий текст причисляют, ибо он, Веничка, один такой. Первоисточник, ни от кого ничего не заимствующий. Сам себе первооснова.
До недавнего времени раз в году пламенные почитатели поэмы устраивали мемориальные путешествия в Петушки с Курского вокзала. Может, и сейчас устраивают.
Брали с собой горячительное – как без него? Смотрели друг на друга со значением. Чокались. Милицейские патрули и контролёры, говорят, блаженных не трогали, относились с пониманием. Скульптуры, опять же, сооружены на Курском и в Петушках.
В общем, есть нам чем и кем гордиться. Если иметь хоть капельку понимания.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.