Дура лексика: зачем РАН узаконивает англицизмы
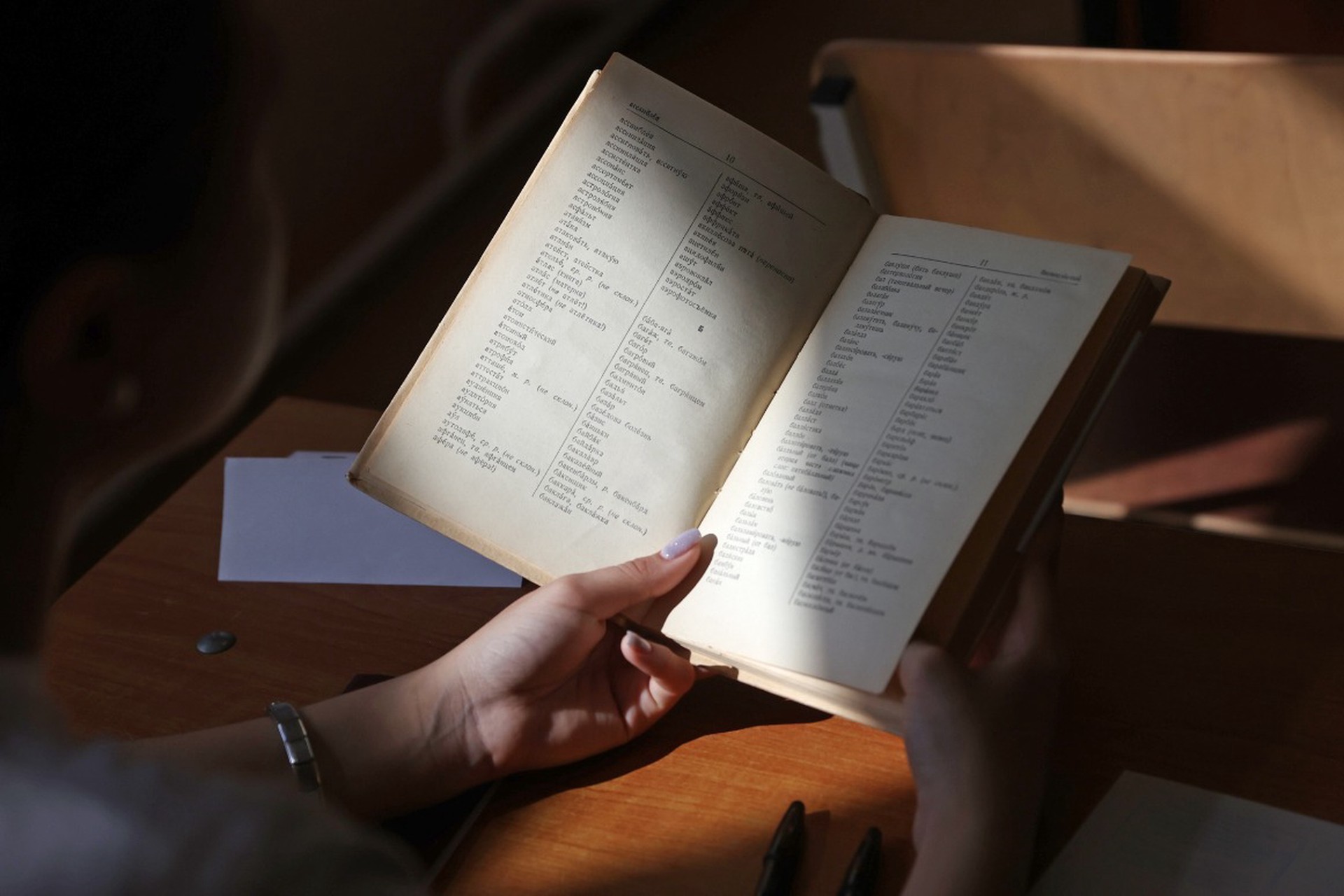
Об очередном дополнении Русского орфографического словаря – обозреватель «Абзаца» Игорь Караулов.
Русский язык не стоит на месте. Сегодня мы говорим не так, как говорили вчера. Наши дети говорят не так, как мы. Разные профессиональные и социальные группы не понимают друг друга. И это еще не худший случай. Иногда понимают, но возмущаются: мол, как же можно так говорить, это же не по-русски!
Меняется темп коммуникации, меняются ее способы, и это тоже влияет на язык. Появляются новые реалии, которые порождают свою терминологию и свой сленг.
В недавнем прошлом, например, эпидемия коронавируса принесла нам «самоизоляцию» и «социальную дистанцию». А в последние годы множество новых слов породила специальная военная операция. Теперь «блинчик» – это не только кулинарное изделие, но и блиндаж, «птичка» – не только пернатое существо, но и беспилотник, а «лепесток» – не только часть цветка, но и коварная мина.
Новую лексику приходится систематизировать. Сперва на эту поляну приходят любители и энтузиасты. В Сети можно найти словарики самого разного сленга или, скажем, статьи, призванные просветить людей зрелых (бумеров) относительно языка современной молодежи (зумеров).
Однако в официальные словари подобные слова если и попадают, то с задержкой – порой уже тогда, когда слово начинает выходить из актуального речевого оборота. Тем не менее Российская академия наук старается держать руку на пульсе и время от времени дополняет Русский орфографический словарь.
Словарная фиксация – это очень важно. Это значит, что слово официально прописано в языке. Скажем, теперь школьник может использовать такое слово в сочинении и учитель не просто не скажет, что такого слова нет, но и может снизить оценку за его неправильное написание.
Если судить по дополнениям словаря, то можно сделать вывод, что темпы изменения русского языка растут. Так, в прошлом году в словарь было включено лишь около 400 новых слов, а в нынешнем их оказалось целых 657.
За счет чего же обогащается русская лексика? Фронтовые реалии в самом деле получили отражение в словаре, но надо сказать, что в этом случае филологи могли бы действовать оперативнее. Например, за три с половиной года в стране была практически с нуля создана целая индустрия беспилотной авиации, а слово «беспилотник» (о «птичке» пока речь не идет) вошло в словарь только сейчас. Как, впрочем, и слово «СВО».
Зато словарную прописку получили модные словечки из современного сетевого быта и городского потребления, такие как «тиктокер», «смузи», «раф», «пауэрбанк». И вот тут могут возникнуть сомнения: такая лексика точно обогащает русский язык или, наоборот, обедняет его?
Эти сомнения разделяет, например, советник президента Елена Ямпольская. Она удивляется, зачем из года в год уважаемые филологи пополняют Русский орфографический словарь англицизмами.
И в самом деле, в прошлом году были легализованы «фудшеринг» и «глэмпинг». Не хватает в наших словарях только пресловутого «избинга», а также «шашлыкинга».
С одной стороны, если слово существует, употребляется и известно широкому кругу людей, то было бы странно делать вид, что его нет. А с другой – в то время как Госдума принимает законы о защите русского языка и борьбе с иностранщиной, РАН эту иностранщину легализует. Правая рука не знает, что делает левая.
Может быть, имело бы смысл дать подобным словам отстояться еще дольше, чтобы убедиться в их жизнеспособности. Если потонет, так и бог с ним. А выживет – что ж, так тому и быть, добро пожаловать в словарь.
Язык развивается сам по себе, и было бы наивно предполагать, что путь его развития можно определить директивным способом. Люди общаются, не заглядывая в словарь. Но все же от академических филологов хотелось бы ожидать более осмысленной расстановки приоритетов.
Было бы обидно смириться с тем, что на любые перемены в жизни русский язык реагирует прежде всего поглощением новой порции заимствованных слов. Хотелось бы, чтобы в словарь в первую очередь попадал тот пласт новых слов и новых смыслов, который рождается на органической основе в силу пластичности самого языка и благодаря творческому началу, присущему нашему народу.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.